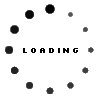Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой,
влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг
над столом и возвращается в Чистик -- славное наше моховое болото,
мать великой русской реки.
Не одно это
болото
питает многоводную реку, но все питающие мхи называются чистики.
Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные, с
высокими соснами, сохранили свой Первобытный вид, так вот и кажется,
что за соснами будет вода, идешь -- и нет! Буйные с полверсты заросли,
в кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься,
напорешься на колья чахлых березок. Ходить тут можно по клюквенным
тропам, пробитым общими силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев,
случается, и сам Миша пройдет, все тропят и спасаются в зарослях. Как
пробьешься из этих зарослей в чистик -- чистое место, благодатное,
весной каждая кочка букет цветов, летом после комара, как подсохнет,
найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в постель, только
руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику -- кум
королю!
Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не
касались лесов, окружающих болото -- исток, мать славного водного
пути
из варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.
Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края.
Бывало, бродишь по этим лесам -- какая могучая тишина, какая богатая
пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто -- сто! --
лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут
рельсы, трубы, заборы, фермы -- страх за сто лет!
И что же оказалось (...), леса были так исковерканы, завалены сучьями,
макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало
невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили
солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да,
только хищники, лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки,
заваленные сучьями. Лес, земля, вода -- вся риза земная втоптана в
грязь, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над
этой гадостью.
Будет ли Страшный Суд?
На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы
земные.
И они все потоптаны.
Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?
В тяжелые минуты спросишь себя: "Чего хочу?" -- и отвечаешь: "Хочу
настоящего чаю с сахаром".
-- Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет
на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?
-- Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я
думаю, Что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с
личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой -- леса,
озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о
защите от человека-зверя.
Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или
безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в
человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (...)
все бросились истреблять леса, -- это не люди, это зверь безумный
освободился.
Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами; срубили оазисы,
источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.
Россия...
Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое – народ русский
в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн?
Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до
того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это
есть история России? Да,
это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная история, и сам
Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось
побыть.
Родина...
Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви!
Я кричу: "Ходите в свете!" -- а слово эхом ко мне возвращается:
"Лежите во тьме!" Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и
больше знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда,-- почему
же я тоскую, разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с
ней, видеть ее простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою
чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта
блудница,-- раба со святою душой,-- моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо знал,
что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей
лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение -- молчание
и счет прошедших годов?
Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как и
кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще
бормочут тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере,
сейчас на глазах, сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.
Немой стою и только после записываю:
"В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом
все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих
рек, птиц сохрани,
рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу
нашу".
…… Скоро показалась телега, луковый человек его дожидался, это был Иван
Афанасьевич Крыскин. зажиточный огородник (gardener) из городских
мещан, перебравшийся в деревню. Не за услугу, конечно, какая в этом
услуга, а просто из жалости к человеку,-- и еще учитель, ест без соли,
без хлеба поднятый с дороги даже не чищенный лук,-- Иван Афанасьевич
дал ему довольно большую,-- фунта четыре, сообразил Алпатов,-- краюшку
хлеба и подсадил к себе на телегу.
IX. О ХЛЕБЕ ЕДИНОМ
-- Дуравей России есть ли
страна? -- спросил Крыскин.
-- Едва ли! -- ответил Алпатов.
-- И что есть Россия? На одном конце солнце всходит, на другом заходит,
и на таком большом пространстве все говорят, что мало земли и люди
разуты-раздеты; есть ли на свете страна дуравей России?
-- Едва ли! -- повторил Алпатов.
-- И что есть родина? Вот
теперь мне стало ясно, что солдат существует, чтобы его убили или
чтобы он убил, и больше в солдате нет ничего: раньше я служил солдатом
и был ефрейтором и фельдфебелем, ничего такого не думал, служил и
служил для родины и отечества, и вот,
оказывается, родины нет и
отечества нет.
-- Как же это так? -- удивился Алпатов.
-- А очень просто, у меня есть дочка, тоже учительница и курсистка,
Крыскина, слышали?
-- Слышал, есть такая учительница.
-- Ну, вот, она мне читала, что, где теперь станция Тальцы, раньше был
город Талим, в этом городе были стены и башни, через эту местность
проходило много всяких народов, захватывали город попеременно и под
стенами кости скоплялись разных народов -- вот это называется родина, и что в Тальцах
живет теперь человек, это называется русский и все вместе русский
народ. Ну, как вы думаете, все это есть ценность?
-- Это наше прошлое.
-- То есть переходящие народы, и русского человека нету, и родины тоже
нету, а между прочим, я жалею русского человека и родину и понять не могу,
откуда у меня эта жалость берется.
-- Любят всегда неизвестно за что.
-- Да что же тут можно любить? У нас теперь нету фабрик, ситцу, калош,
сапогов и продуктов земли, даже хлеба, соли,-- у нас одна земля. И то
же самое про человека, что нет у нас закона, религии, семейности, нет
человека и один только Фомкин брат всем командует. Национальность
погибла, и говорят, по всему земному шару все национальности погибнут,
и у немцев, как у нас, будет Фомкнн брат, и у французов, у англичан, у
японцев, везде голая земля,и тогда все под одного Бога. Ну, один Бог
для всех народов, это я считаю правильно, это совершенство, как плуг
паровой и подобное, как наша соха. И позвольте вам только сказать и
спросить вас: ежели говорят брось соху и мы тебе дадим паровой плуг,
то как я поверю в высшее без видимости плуга. То же самое и про
старого нашего Бога, я оставлю его, а общего не окажется. Слов нет,
коммуна -- это очень хорошо, а перешагни через эту щель!
Вы посмотрите, какая у нас жизнь: был у нас тряпичник, ездит такой
человек по деревням, собирает где тряпку, где кость, где жестянку, и
так год, и два, и три, десять. Через двадцать до того приладился к
делу, что в городе склад открыл, а сотня, другая для его дела ездит, и
в конце концов из тряпки этой выходит бумага. Теперь человек этот,
буржуй, разорен, тряпок никто не собирает, и бумаги нет. Бывало,
человек нужник чистит, смотришь на него, мнет ситник, сыт, весел;
смотришь теперь, этот же самый человек, ведь они теперь те же самые
прежние люди, стоит, чистит нужник, ситника у него нет, а нужник
остался, ну, скажите ему, что скоро будет коммуна и все люди пойдут
под общего Бога. У меня вот дочка учительница теперь сидит и все
книжки читает, начну я ей это свое говорить, а она мне: "Это, папаша,
в будущем". Вот почитает, почитает и: "Есть хочу",-- а я книжку ей на
стол: "На, ешь, а хлеб в будущем".
Все время, как говорил Крыскин, не мог Алпатов разобраться, друг ему
этот человек или враг, но когда он до книжки дошел, то понял, что,
наверно,vвраг и просто так хлеб от него взять нельзя: бойся поповской
просвиры и мужицкой ветчины.
-- Вот вы мне хлеб дали,-- сказал он,-- а что же мне бы дать вам за
хлеб?
-- Бог с вами, но ежели бы у вас один предмет нашелся, я не
откажусь.
"Уж не опять ли всплывает этот разбитый казенный сундук?" – испугался
Алпатов и спросил со страхом:
-- Какой предмет?
-- Маленькая вещь: квинта.
-- Струна квинта?
-- Струна оборвалась, вечерами скучаю, но ежели нет у вас квинты, дайте
рассказ.
-- Рассказ?
-- Какой-нибудь, все равно, только бы весело; у меня был очень хороший
рассказ, все читал его, да вот по нынешним временам украли и выкурили,
теперь опять так сижу, ни поиграть на скрипке, ни почитать,
какой-нибудь дайте завалящийся.
-- Рассказ я вам дам "Преступление и наказание" Достоевского.
--Того Достоевского, что на каторге был, и это, кажется, о
Раскольннкове, как он двух старух убил. Боже сохрани, не давайте.
-- Вы не дочитали повести: Раскольников убил, а Достоевский это убийство
осудил и учит нас вовсе не убивать.
-- А это еще хуже, чтобы вовсе не убивать.
-- Христов завет.
-- Бог с вами: такого завета у Христа не было.
-- Как не было, вы не читали Евангелия.
-- Я не читал? Ну нет, ошибаетесь. Правда, у нас читают редко Евангелие,
к тому же народ наш темный, неграмотный, зато ежели кто взялся раз,
тот уж доходит до всякой буквы. Так и я дошел и оставил эту книгу:
больше не читаю. Понимаю, что очень хорошее Христово учение; как жизнь
наша здесь, на земле, тяжкая, то Господь нам дает утешение в жизни
загробной: здесь потерпите, а там будет хорошо, вот и все Христово
учение. Правда, Христос учил людей не убивать, но вы эту заповедь
обернули по-своему и сделали из нее самое вредное дело.
-- Мы?
-- Вы! Во всех смутах и во все времена была виновата антиллигенция, но
самая ее вредная мысль, что людьми можно управлять без насилия и
казни. Да, Христос людей учил не убивать, но казнить разбойников он
нигде не запрещал. Нет, вы мне такого, Боже сохрани, не давайте
читать, мне нужен просто рассказ.
-- Толстого?
-- Толстой больше всех виноват: он эту вредную мысль и выдумал, вот бы
ему теперь хоть бы одним глазком посмотреть, что из его семян выросло.
Не давайте мне Толстого, пожалуйста.
-- Успенского дам я вам: крестьянский труд, это очень хорошая книга.
-- Помню и эту, дочь мне давала читать, там очень хорошо описана
жизнь
мужика трудящегося, а вывод сделан неправильный: о поравнении, тоже
вредная
мысль. Я верю в дело только отдельного человека и в черту.
-- В отдельного и его собственность?
-- Да и в его собственность.
Алпатов рассказал, что будет, если за исходный пункт взять
отдельного,
и рад был, что злоба этого человека, как белая пена на черном
вареве,
остановилась, он притих и задумался.
-- Нет,-- сказал он наконец,--я признаю над собою черту.
-- Какую черту?
-- Не знаю, точно где-то я читал или мне снилось, мне снится разное
чудное, недавни снилось, будто время (...) быстрое и произвольное,
как
хочешь стрелку поставь -- чиновники по стрелке бегут в канцелярию, что
это
время соединилось с земледелием: посадил лук, смотрю, а он через час уже
в
стрелку пошел, через три часа теленок вырос в быка, и рожь
поспевает,--
удивительно, какие штуки во сне бывают. Так снилось мне или я где-то
читал,
мужик собрался резать теленка и нож для этого дела выточил, с вечера
лег
спать и слышит, теленок ребячьим голосом плачет; как вы думаете,
понимает
теленок?
-- Ну, понимает.
-- А мы этого не понимаем.
-- Ну...
-- Вот и все.
-- Мы же с вами говорили про союз отдельных.
-- И я к тому же веду, союз наш будет в понятном, а как же в непонятном?
Нет, я признаю над собою черту. У антиллигенции же этого нет, одна
партия вертит воробьям головы, другая соединилась не убивать врагов
человечества. У них черты нет и проверки.
-- Черту вашу я понимаю, это страх Божий.
-- Ну да, страх Божий.
-- А что же такое проверка?
-- Хлеб наша проверка. Знаете, я сам из мещан и мужиков не люблю:
бык,
черт и мужик одна партия, но понимаю теперь, почему вы голодаете, а
Господь
нам в черную годину этот кусочек послал: хлеб наша проверка.
-- Ошибаетесь, хлеб тоже имеет проверку. Христос сказал: не единым
хлебом жив человек.
-- Не единым? Зачем же вы лук по дороге собираете? И жили бы книжкой.
В
Евангелии про камни сказано, что дьявол хотел их в хлеб без труда
превратить, а господь ему запретил обращаться к хлебу без труда, вот
этим,
мол, и будет жив человек. Антиллигенцию же черт обманул, она хочет
хлеб
сделать из камня посредством трахтора.
-- Какая же это интеллигенция, про которую вы так говорите?
-- Обыкновенная: кто не сеет, не веет и при том враг себе и простому
народу, а хлеб един, и о нем все заветы.
-- И жив человек одним только хлебом?
-- На земле жив единственно этим, а все прочее притча. Вот если бы
Евангелие, как Толстой,
понимать, чтобы жить на земле по притчам, то хлеб не
нужен, оттого что и продолжение рода человеческого не нужно: оставь и
отца,
и мать, и жену. А я понимаю Евангелие как притчу об утешении и обещании
на
том свете жизни легкой. Я против этого ничего не имею, а на земле
жив
человек единственно собственным хлебом.
У креста, где дороги расходятся на все четыре стороны, Алпатов хотел
проститься с огородником и спрыгнул с телеги, но тот задержал лошадь и
на
прощанье спросил Алпатова, и, видно, не просто, а с целью открыть
что-то
свое особенное и необыкновенное.
-- Вы-то сами,-- спросил он,-- хорошо ли читали Евангелие?
-- Нет, -- ответил Алпатов,-- по-моему, усердно читают Евангелие у
нас
сектанты, а я их не люблю, я просто понимаю, чему меня с детства учили:
вот
сейчас вижу крест и вспоминаю чудо насыщения пятью хлебами.
-- И насытились? -- Крыскин усмехнулся.-- Неужели верите?
-- Верю.
-- Едва ли, вы это на гордость свою, на дух переводите, духовный,
мол,
хлеб, а какой уж там духовный, ежели прямо сказано, что осталось
двенадцать
коробов кусочков от пяти хлебов. Вы в это потому верите, что на себя
переводите: я, мол, учитель и тоже, как Христос, могу ходить, учить и
не
работать.
-- Как Христос не работал? Что вы кощунствуете, его работа в
распятии.
-- Распятие -- это быстрое дело, помучался часами и помер. Все равно
как в наше время стрелку переведут и думают, от этого вся жизнь
стронулась.
Так и распятие идет по скорому времени (...), а жизнь идет по
солнечному,
тихо, работа медленная и то отпустит немного, то опять скрутит, и все
сиди и
сиди в одной точке: вбит кол, и на колу я привязан, как бычок. Но он
ходил,
и учил, и был распят, а не работал. Вот то-то, вы не читаете Евангелие,
надо
читать. Нигде там не сказано, что он сидел и работал, а только ходил и
учил.
-- И не спас?
-- Бездетный был и не работал, нам примера нет, наша жизнь больше в
буднях проходит, а у него все праздники. Его путем нам спастись
невозможно.
-- И живут неспасенные?
-- Великому множеству людей это вовсе не надобно: родится хлеб --
слава
тебе господи! не родится -- надо потерпеть. А вы терпеть не можете, и
чуть
вас коснулась беда -- сейчас подавай Христа: слабость это и обман
гордости,
чтобы самому не работать, а ходить, учить, сочинять.
-- Ну хорошо, я ошибаюсь, интеллигенция заблудилась, а есть же
настоящий Христов путь спасения мира от проклятия.
-- От проклятия, наверно, есть, только это всех нас мало касается,
не
все мы прокляты.
-- Сказано...
-- Понимаю, сказано еще: в муках рождать, но не каждая же баба в
муках
рождает, другая ребят, как яйца, несет. Это про часть сказано, а вы и
на
всех и здоровых переводите неправильно. Конечно, певчие нужны и
праздники,
попы, дьякона, учителя, сочинители, все это хорошо, но нельзя же всем
жить
без работы. Вот господь в эти тяжкие дни нам кусочек и послал, а вы
голодаете. Христос -- это гордость в вас, смиритесь до конца, и
останется
хлеб собственный, трудовой. Единственно этим жив на земле человек, а
все
прочее по мере надобности.
"Тоже искушение на гордость,-- думал Алпатов, глядя на забытую в
телеге
краюшку хлеба. После такого разговора ему стыдно было взять этот хлеб,
а
Крыскин не замечал,-- смириться и напомнить? Нет".
-- Хлеб забыли, хлеб забыли! -- кричал вслед ему Крыскин.
Он слышал и не хотел возвращаться за хлебом. "Куда же это я зашел?"
--
спросил себя Алпатов в лесу на незнакомой тропинке, сходящей постепенно
на
нет,-- вокруг среди безлиственных рогатых деревьев неотступно шел за
ним
черный крест с распятым разбойником и голос Крыскнна неустанно
спрашивал:
-- Если ты Христос, спаси себя и нас.
-- Я не Христос, я сам был разбойником, принимаю достойное по делам
своим, но что же он сделал нам худого?
Тогда расступились деревья и пропустили его на просеку, в конце этой
бесконечной хвойной аллеи луна стояла чисто, порхали снежинки, и
старик,
похожий на Лазаря, обвязанный платком, тихо ехал, то показывался, то
исчезал
в тени бора; Хотел идти навстречу старику, но сил идти не было, он упал
на
мерзлую землю, и, после жара, холод ужасный затряс его, но открытыми
глазами
он все смотрит туда, на месяц; где идет снег и все близится больной
старик.
Вот он уже ясно виден, и сладчайшая улыбка у него на лице, как у
старого
отца Афанасия бывает всегда во время похорон: улыбка не от мира сего,
все
плачут, когда отец Афанасий так улыбается.
"Так этот старик и есть отец Афанасий!" -- открылось Алпатову.
Но что самое главное открылось в эту минуту, что отец Афанасий и есть
Иисус Христос, сам.
И надо бы теперь ему сказать: "Помяни мя, Господи, егда приидеши во
царствие Твое",-- тогда все бы стало хорошо, но сказать почему-то
стыдно,
почему так?
"Верно, это оттого, что я не окончательно еще умер и оледенел". --
подумал Алпатов и попробовал двинуть какой-нибудь живой косточкой в
своем
теле, похожем на ледяной мешок костей.
Мизинец и шевельнулся.
"Ну так и есть: это мой живой член бунтует".
А отец Афанасии оттянул из него самое главное, имя его святое, и
поет
ему вечную память и жизнь бесконечную.
"Сказать бы надо про мизинец: покаяться в живом члене, а то выходит
обман. Но разве можно за живое каяться, разве оно виновато, что
живо?"
И так означилось поле при небе мутном и безразличном, без горизонта
и
всякой черты, отделяющей небо и землю, только рыжая, занавоженная
дорога
поднимается в мути все выше и выше. Неверным тенором поет отец Афанасий
"Со
святыми упокой", и буланая лошадка с темными кругами под глазами,
телеграфными столбами, усердно нажимаясь, тащит все выше и выше на
небо.
ЭПИЛОГ
И как все скоро переменяется, будто не живешь, а сон видишь. Давно ли
тут вместе с Алпатовым в Тургеневской комнате привешивал на видное
место даму с белым цветком и подбирал к старым портретам тексты из
поэтов усадебного быта -- теперь этого уже нет ничего. В Тургеневской
комнате канцелярия Исполкома, в парадный зал переехал Культком, в
колонной -- Райком, в комнате скифа -- Чрезвычком, в охотничьем
кабинете чучела лежат грудой в углу, хорошо еще, книги уцелели, и то
потому только, что ключ увез Алпатов с собою в больницу.
Позвали вора с отмычками, открыли шкаф, и Савин принялся разбирать и
откладывать нужные ему книги. Секретарь кружка, Иван Петрович, все
уговаривал поменьше книг увозить: "Не обижайте деревню!"
-- История и археология, Иван Петрович!
-- А нам пьесок, пьесок.
Окончив работу, Савин с книжкой прилег на диван, но читать ему не
пришлось, дверь отворилась, вошел черный человек в полушубке, с
лицом
обреченным, назвал себя:
-- Крыскин Иван, огородник,--и спросил председателя.
Савин рассказал ему, что Персюк повстречался с ним в поле, скоро
будет,
и тут на другом диване можно его подождать, а сам он -- библиотекарь.
Этими
словами Крыскин совсем успокоился, присел на диван и сказал:
-- Пришел садиться.
-- В холодный амбар?
-- В холодный.
-- Вот крест!
-- Да, подобное, только хорошего или какого будущего я тут не вижу.
Был
тут учитель Алпатов, хотел на этом основаться и помер с голоду.
-- Жив!
-- Помер.
-- Помер, ну, так воскреснет, что скажете?
-- Ничего не скажу: он воскреснет, а я все равно пойду в холодный
амбар. Вот если бы он воскрес и спас нас от холодного амбара, это я
бы
признал. А то мало ли что для себя образованный человек на досуге
придумает,
взял и воскрес.
-- Да разве можно так?
-- Отчего же нельзя, свободный человек выход для себя может
придумать
какой угодно, а мне должно идти в холодный амбар неминуемо.
-- То же говорил разбойник Христу: "Спаси себя и нас".
-- И говорил правильно, оттого что ему жить хотелось на земле, а не на
небе.
-- Хотите жить на земле, почему же вы не с пролетариями?
-- Потому, что я огородник, просто развожу рассаду, раз душевой земли
у
меня нет и равенства с прочими крестьянами нет, как я с утра до вечера
копал
землю и так что шесть раз огород перекопал лопатой и продал капусту, а
они
неверно рассчитали мои доход и контрибуцию в десять тысяч я не могу
уплатить, то неминуемо мне попасть в холодный амбар. Какое же тут
будущее:
огород мой на мне прекращается, я -- конец, а после меня человечество
будет
копать огород не лопатой, а паровым плугом, один будет пахать, а
девяносто
девять заниматься чтением книг, одна баба полоть паровым способом, а
девяносто девять заниматься с детьми, как обещает Фомкин брат,--
нет!
-- Чего это Фомкин брат? -- сказал, появляясь в дверях, Персюк.-- Э,
Крыска пожаловал, ну, что принес?
-- Придет весна, капусту посажу, придет осень, продам, щей похлебаю
и
принесу.
-- Не бреши, Крыска, есть деньги?
-- Есть на куме честь.
-- Говори без притчи.
-- Издохла кума, никому не дала.
-- Эй, Кириллыч, запри его, черта, знаешь, туда, где намедни Кобылка
сидел.
-- Рядом с нужником?
-- Да, в нужник.
Спустя время Савин прошел в новую дощатую пристройку к дворцу и там
из
ледяного кабинета в пустой сучок увидел чулан, наполненный архивами
волости,
полузанессннымн снегом, во все щели тесовых стенок несет снежную пыль, и
на
этом снежном полу сидит Крыскин, обхватив колени обеими руками, и
смотрит в
одну точку, где небо и земля одинаково белые, и черный ворон летит,
не
поймешь как, по небу или но земле.
Долго Савин возился еще в охотничьем кабинете, укладывал в ящики
поэтов
усадебного быта и, когда возвратился погреться в зал около чугунки, там
на
канцелярских столах сидели все члены Исполкома, Райкома, Чрезвычкома и
сам
Персюк, все хохотали над сказками Кириллыча. Принесли огонь, завели
граммофон, собрались разные деревенские гости и между ними даже
безногий
солдат. Пели, плясали, топали, хохотали до полуночи.
-- Крыскин замерзает,-- шепнул мальчик.
-- Чего? -- спросил Персюк.
-- Хрипит.
-- Пускай хрипит.
Савин уснул, не раздеваясь, тут же на диване возле чугунки. В эти
страшные дни по ночам у людей редко бывали сновидения, как будто душа
покрылась пробкой от ударов дня или тучи закрыли небо души. Но в эту
ночь завеса открылась, и свою собственную душу увидел спящий, как
чашу, из нее пили, ели и называли эту душу МИРСКОЮ ЧАШЕЙ. Больше
ничего не виделось Савину до раннего утра, когда он услышал голос
Кириллыча:
-- Ну и мороз, вышел до ветру и конец отморозил, что теперь скажет
старуха?
У чугунки волостные комиссары жарили сало на сковороде и кричали
Савину:
-- Иди, ешь, чего упираешься, где наша не была, все народное, ешь, не
считайся.
-- Мороз и метель! -- сказал Савин. -- Как же тут ехать?
-- Не так живи, как хочется,-- ответил Кириллыч,-- а так живи, ну
как
теперь сказать, Бог велит?
-- Не "Бог велит",-- сказали у чугунки,-- а как нос чувствует.
-- А кто же метель посылает?
-- Это причина, так сказать.
-- Ну, Иисус Христос.
-- И это не причина.
-- А тебя как зовут?
-- Ну, Иваном.
-- Врешь, не Иван, а причина.
Посмеялись, почавкали сало, еще кто-то сказал:
-- Еще говорится судьба.
-- Пустое,-- ответил Кириллыч,-- поезжай сто человек спасать и твое дело
с ними связано, это будет судьба, а ежели я в такую страсть кинусь --
это моя дурь и пропадать буду, услышат, никто не поможет, скажет:
"Зачем его в страсть такую несло".
Савин не послушался Кириллыча и поехал в такую погоду. На прощанье зашел
в ледяной кабинет и заглянул в пустой сучок: Крыскина там не было, или
уплатил налог -- выпустили, или замерз -- вынесли. Лошадь уже
тронулась, как Савин услышал, кто-то зовет его,-- это Иван Петрович,
пожилой седеющий человек, резво догонял его:
-- Пьесок, пьесок,-- говорил он на ходу,-- расстарайтесь для нас, не
обижайте деревню!
В поземке исчез скоро Иван Петрович, как несчастный эллин,
затерявшийся
в Скифии, потерялся ампирный дворец и парк с павильонами, но наверху
было
ясно и солнечно, правильным крестом расположились морозные столбы
вокруг
солнца, как будто само Солнце было распято. Все сыпалось, все
двигалось
внизу, виднелась только верхняя половина лошади, а ноги совсем исчезали,
и в
поле далеко что-то показывалось и пряталось в поземке, какие-то серые
тени с
ушами, лошадь храпнула, и стало понятно, что волки. И еще черный
ворон
пересек диск распятого солнца, летел из Скифии клевать грудь
Прометея,
держал путь на Кавказ.